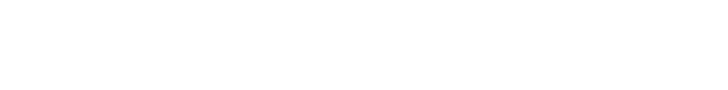Ведущая деятельность детей 3–7 лет: сюжетно-ролевая игра. Часть 1
Людмила Ивановна Познякова
Подпишитесь, чтобы не потерять:
Если первые три года жизни ребенок, подобно маленькому ученому, исследовал мир через призму предметов — стучал ложкой по кастрюле с серьезностью экспериментатора, изучал плавучесть предметов с вниманием Архимеда, — то после трех лет наступает новая эпоха. Теперь малыш становится "режиссером". Корявая палка превращается в волшебный меч, стул — в неприступный замок, а случайно разбитая чашка — в повод для целого спектакля. Ребенок предлагает создать событие заново, превратить случайный жест в театр.
Ведущая деятельность — от 3 до 7 лет — игра! Именно в этом возрасте в детской комнате и на детских площадках разворачиваются настоящие драмы: куклы спорят и мирятся, машинки отправляются в кругосветные путешествия, а сам ребенок примеряет роли врача, родителя, супергероя. Многим кажется, что это такая милая забава — но на самом деле для ребенка это серьезная деятельность, формирующая основы личности.
Еще в дореволюционной России это хорошо понимали: домашние спектакли, где дети перевоплощались в героев, были важной частью воспитания. Маленький Костя Алексеев (будущий Станиславский), закутавшись в отцовскую шубу, впервые почувствовал силу перевоплощения — и это, как всем нам известно, этот ранний опыт игры определил его творческую судьбу.
А что происходит сегодня? Современные дети знают десятки персонажей из мультиков, но не умеют играть в сюжетно-ролевые игры. Да, иногда они потребляют готовые сюжеты с экранов, но не создают свои. Мы даем им интерактивные игрушки — и лишаем главного: возможности превращать обычные вещи в нечто волшебное.
Почему именно в этом возрасте игра становится двигателем развития воображения, здоровых эмоций, эмпатии и даже логики? Как игра формирует будущую инициативность? Как отличить настоящую сюжетно-ролевую игру от простого манипулирования игрушками? И главное — как вернуть детям эту утраченную деятельность, без которой становление творческой личности будет затруднено?
Давайте разбираться вместе, опираясь на работы Фребеля, Выготского, Эриксона, Осориной, Фрадкиной и других.
Ведущая деятельность — от 3 до 7 лет — игра! Именно в этом возрасте в детской комнате и на детских площадках разворачиваются настоящие драмы: куклы спорят и мирятся, машинки отправляются в кругосветные путешествия, а сам ребенок примеряет роли врача, родителя, супергероя. Многим кажется, что это такая милая забава — но на самом деле для ребенка это серьезная деятельность, формирующая основы личности.
Еще в дореволюционной России это хорошо понимали: домашние спектакли, где дети перевоплощались в героев, были важной частью воспитания. Маленький Костя Алексеев (будущий Станиславский), закутавшись в отцовскую шубу, впервые почувствовал силу перевоплощения — и это, как всем нам известно, этот ранний опыт игры определил его творческую судьбу.
А что происходит сегодня? Современные дети знают десятки персонажей из мультиков, но не умеют играть в сюжетно-ролевые игры. Да, иногда они потребляют готовые сюжеты с экранов, но не создают свои. Мы даем им интерактивные игрушки — и лишаем главного: возможности превращать обычные вещи в нечто волшебное.
Почему именно в этом возрасте игра становится двигателем развития воображения, здоровых эмоций, эмпатии и даже логики? Как игра формирует будущую инициативность? Как отличить настоящую сюжетно-ролевую игру от простого манипулирования игрушками? И главное — как вернуть детям эту утраченную деятельность, без которой становление творческой личности будет затруднено?
Давайте разбираться вместе, опираясь на работы Фребеля, Выготского, Эриксона, Осориной, Фрадкиной и других.

— Мама! Давай поиграем, как я чашку разбил: я чем-нибудь стукну, а ты скажешь: «Допрыгался, поздравляю!..»
Оглавление:
- Психологический механизм возникновения игры по Выготскому
- Как, почему и зачем появляется игра в жизни ребенка?
- Роль игры в психическом развитии
- Как игра формирует совесть и характер в концепции Э.Эриксона: кризис инициативы vs. вины
- Что развивает игра?
- 10 проблем некачественного прохождения игровой деятельности в дошкольном возрасте
- Ошеломительные результаты исследования «Двое крутят – один скачет…»
- Ключевые выводы для воспитания творческой личности через игровую деятельность
III Возраст 3–7 лет: когда игра — главный двигатель развития
В этой статье вместе с вами мы предпримем попытку разобраться, почему картонная коробка, фонарик, палки, лужи развивают воображение лучше самого совершенного гаджета, как игра в «дочки-матери» становится тренингом эмпатии, и почему никакие «развивающие программы» не заменят настоящей игры.
Вместе вспомним, что детство — это не подготовка к жизни, а сама жизнь в ее самом ярком и важном проявлении.
Вместе вспомним, что детство — это не подготовка к жизни, а сама жизнь в ее самом ярком и важном проявлении.
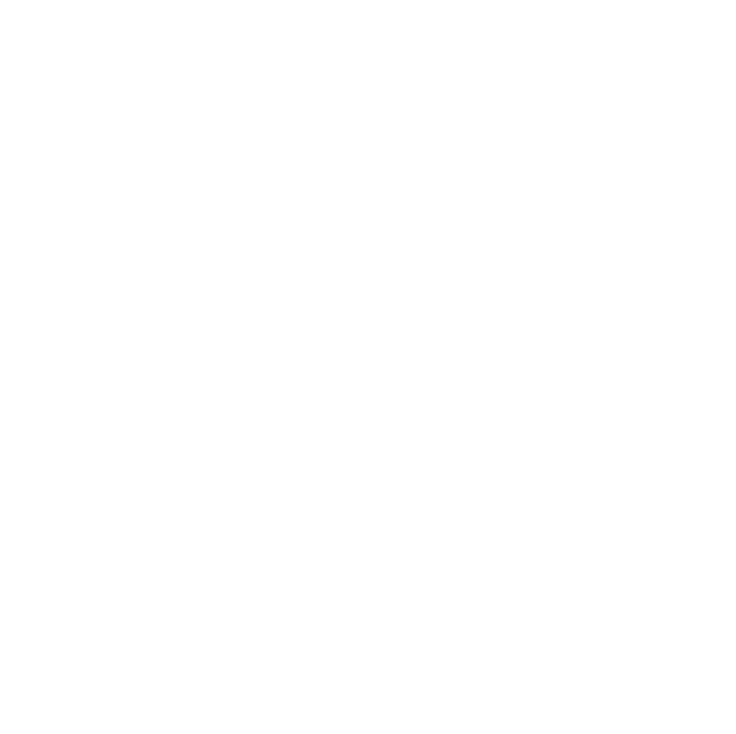
Психологический механизм возникновения игры по Выготскому
Еще сто лет назад Лев Выготский назвал игру "ведущей деятельностью" дошкольника – не потому, что дети много играют, а потому, что именно здесь закладываются основы мышления, воли и даже будущей успешности в школе:
«Мне кажется, что с точки зрения развития, игра не является преобладающей формой деятельности, но она является в известном смысле ведущей линией развития в дошкольном возрасте».
Л.С. Выготский. Источник публикации: Стенограмма лекции, прочитанной в 1933 г. в ЛГПИ им. А.И. Герцена
Детская игра – главный язык развития, на котором ребенок учится управлять миром, прежде чем столкнется с его реальными правилами.
«Мне кажется, что с точки зрения развития, игра не является преобладающей формой деятельности, но она является в известном смысле ведущей линией развития в дошкольном возрасте».
Л.С. Выготский. Источник публикации: Стенограмма лекции, прочитанной в 1933 г. в ЛГПИ им. А.И. Герцена
Детская игра – главный язык развития, на котором ребенок учится управлять миром, прежде чем столкнется с его реальными правилами.
Как, почему и зачем появляется игра в жизни ребенка?
В дошкольном возрасте возникает принципиально новый тип психической жизни: у ребенка появляются сильные желания, которые невозможно реализовать немедленно. До трех лет малыш либо требует исполнения желаний, либо отказывается от них, но после трех психика усложняется. Возникает внутреннее противоречие: с одной стороны, сохраняется стремление к немедленному удовлетворению, с другой — появляется способность откладывать его.
Это противоречие становится источником появления «игры» как особой формы деятельности. Игра позволяет ребенку в воображаемом плане реализовать то, что невозможно в реальности. Например, когда он берет палку и представляет ее лошадью, он разрешает напряжение между "хочу" и "не могу". Таким образом, игра — это иллюзорная реализация нереализуемых желаний.
При этом она удовлетворяет не только сиюминутные потребности, но и более глубокие: ребенок хочет не просто покататься на лошади, а испытать чувство власти, самостоятельности, "взрослости". Эти обобщенные аффективные тенденции находят выход в игровой деятельности, хотя сам ребенок не осознает мотивов своей игры.
«Игра непрерывно, на каждом шагу создает к ребенку требования действовать вопреки непосредственному импульсу, т.е. действовать по линии наибольшего сопротивления. Непосредственно хочется побежать — это совершенно ясно, но игровые правила велят мне остановиться. Почему же ребенок делает не то, что ему непосредственно хочется сейчас сделать? Потому что соблюдение правил во всей структуре игры сулит такое большое наслаждение от игры, которое больше, чем непосредственный импульс».
Л.С. Выготский. Источник публикации: Стенограмма лекции, прочитанной в 1933 г. в ЛГПИ им. А.И. Герцена
Это противоречие становится источником появления «игры» как особой формы деятельности. Игра позволяет ребенку в воображаемом плане реализовать то, что невозможно в реальности. Например, когда он берет палку и представляет ее лошадью, он разрешает напряжение между "хочу" и "не могу". Таким образом, игра — это иллюзорная реализация нереализуемых желаний.
При этом она удовлетворяет не только сиюминутные потребности, но и более глубокие: ребенок хочет не просто покататься на лошади, а испытать чувство власти, самостоятельности, "взрослости". Эти обобщенные аффективные тенденции находят выход в игровой деятельности, хотя сам ребенок не осознает мотивов своей игры.
«Игра непрерывно, на каждом шагу создает к ребенку требования действовать вопреки непосредственному импульсу, т.е. действовать по линии наибольшего сопротивления. Непосредственно хочется побежать — это совершенно ясно, но игровые правила велят мне остановиться. Почему же ребенок делает не то, что ему непосредственно хочется сейчас сделать? Потому что соблюдение правил во всей структуре игры сулит такое большое наслаждение от игры, которое больше, чем непосредственный импульс».
Л.С. Выготский. Источник публикации: Стенограмма лекции, прочитанной в 1933 г. в ЛГПИ им. А.И. Герцена
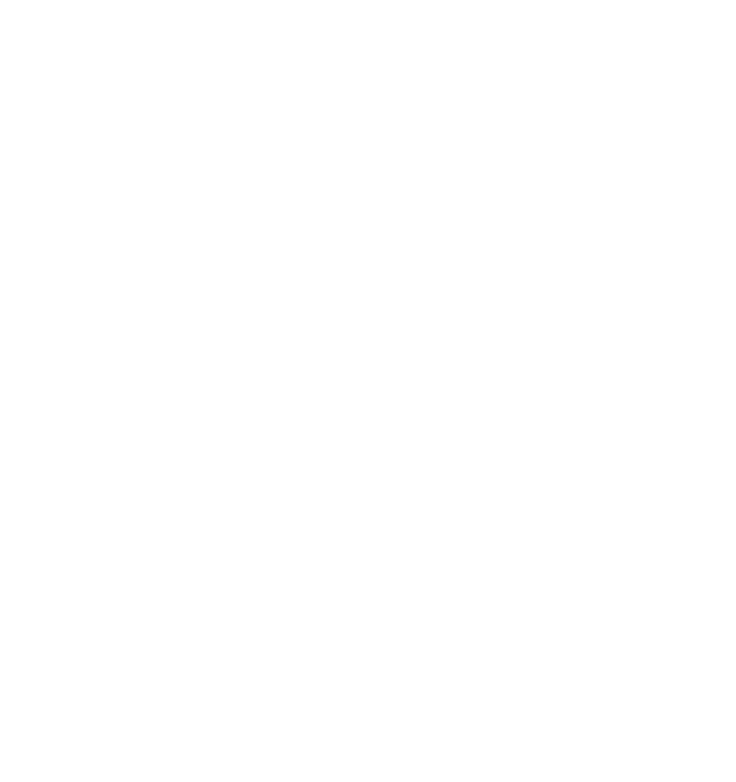
Роль игры в психическом развитии
Игра — это принципиально новый этап в развитии сознания: впервые мысль отделяется от конкретной вещи (палка становится лошадью, кусок дерева — куклой). Такой отрыв значения от предмета — психологический переворот, меняющий отношение ребенка к действительности.
В игре создается уникальная ситуация: ребенок действует с реальными предметами, но наделяет их новыми, условными значениями. Это двойственное оперирование (реальным и воображаемым) становится фундаментом для абстрактного мышления.
Игра выполняет исключительную роль в развитии воли и произвольности. В игровой ситуации ребенок впервые начинает действовать, руководствуясь не внешними обстоятельствами, а внутренним смыслом действий. Это фундамент для будущего волевого поведения, когда поступки будут определяться не непосредственными импульсами, а сознательным выбором и решением. В игре создается "зона ближайшего развития", где ребенок демонстрирует более высокий уровень поведения, чем в обычной жизни, предвосхищая свои будущие достижения.
Через игровую деятельность происходит важнейшее преобразование сознания - ребенок учится осознавать свои действия и понимать, что каждая вещь имеет значение. Игра становится тем переходным мостиком, который соединяет непосредственное, ситуативное поведение раннего возраста с осознанной, произвольной деятельностью школьного периода. Именно в этом смысле игра является ведущей деятельностью дошкольного возраста - она не просто сопровождает развитие, а активно формирует новые психологические структуры, определяя весь ход психического развития ребенка.
В игре создается уникальная ситуация: ребенок действует с реальными предметами, но наделяет их новыми, условными значениями. Это двойственное оперирование (реальным и воображаемым) становится фундаментом для абстрактного мышления.
Игра выполняет исключительную роль в развитии воли и произвольности. В игровой ситуации ребенок впервые начинает действовать, руководствуясь не внешними обстоятельствами, а внутренним смыслом действий. Это фундамент для будущего волевого поведения, когда поступки будут определяться не непосредственными импульсами, а сознательным выбором и решением. В игре создается "зона ближайшего развития", где ребенок демонстрирует более высокий уровень поведения, чем в обычной жизни, предвосхищая свои будущие достижения.
Через игровую деятельность происходит важнейшее преобразование сознания - ребенок учится осознавать свои действия и понимать, что каждая вещь имеет значение. Игра становится тем переходным мостиком, который соединяет непосредственное, ситуативное поведение раннего возраста с осознанной, произвольной деятельностью школьного периода. Именно в этом смысле игра является ведущей деятельностью дошкольного возраста - она не просто сопровождает развитие, а активно формирует новые психологические структуры, определяя весь ход психического развития ребенка.
Как игра формирует совесть и характер в концепции Э.Эриксона: кризис инициативы vs. вины
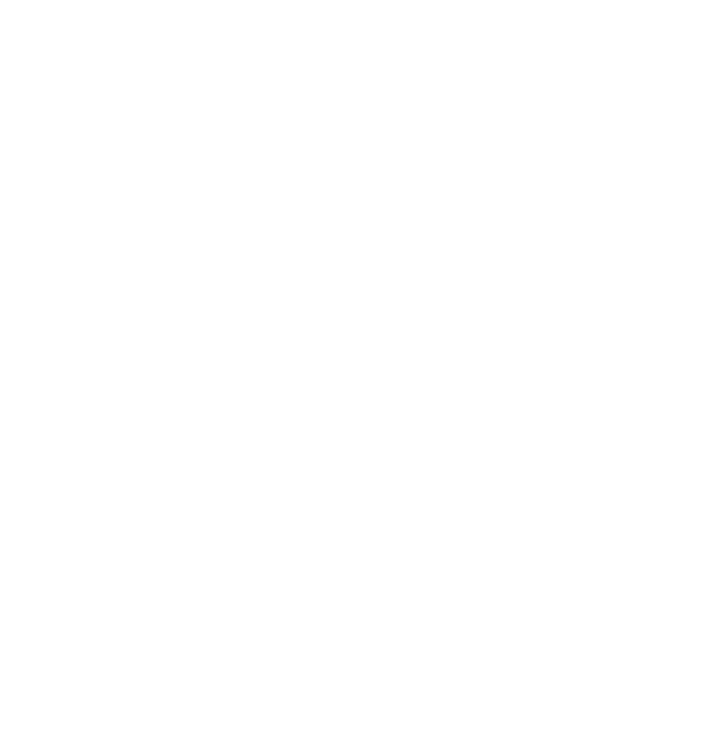
Эрик Эриксон утверждал, что именно в этот период в детской душе рождается противостояние между дерзким "я могу!" и робким "а можно ли?". Ребенок в этом возрасте соединяет в себе безудержную предприимчивость с зарождающейся совестью. Он примеряет роли как костюмы, пробуя их на прочность и удобство, а родители становятся либо восхищенными зрителями, либо строгими цензорами этого импровизированного театра личности.
Как тонко подметил Эриксон, именно в этих, казалось бы, невинных играх закладывается фундамент будущей совести — осознание границ между "можно" и "нельзя", между "я хочу" и "я должен". Могу ли я стать независимым от родителей и исследовать границы своих возможностей?
Трагедия многих современных детей в том, что их естественную потребность в игре-эксперименте взрослые часто подавляют фразами-ножницами: "Не лезь!", "Не трогай", "Ты испачкаешься", "Не шуми". Эти слова нередко блокируют ростки инициативы, оставляя вместо них лишь выжженную пустыню неуверенности: пассивность, боязливость, чувство вины.
«… у них развивается отравляющее чувство вины… Оно говорит Вам, что Вы ответственны за чувства и поведение других людей» (Bradshaw, 1990).
Между тем, мудрые родители понимают: чтобы научиться летать, нужно сначала падать; чтобы стать ответственным, нужно сначала пробовать. Их секрет прост — они умеют быть соучастниками детских игр, направляя, но не командуя, подстраховывая, но не ограничивая. В этом и заключается великое искусство воспитания — дать ребенку наиграться вдоволь, чтобы потом он смог всерьез взяться за дело своей жизни. Так формируется активность, инициатива, стремление «атаковать» задачу, радость от самостоятельного движения и действия, любознательность, исследовательская активность.
Два незримых дирижера стоят за плечами ребенка в этом возрасте: один шепчет 'Попробуй!', другой — 'Остановись!' И чей голос звучит громче — зависит от той незримой партитуры, которую ежедневно пишут родители своими реакциями, жестами и молчаливым одобрением
Как тонко подметил Эриксон, именно в этих, казалось бы, невинных играх закладывается фундамент будущей совести — осознание границ между "можно" и "нельзя", между "я хочу" и "я должен". Могу ли я стать независимым от родителей и исследовать границы своих возможностей?
Трагедия многих современных детей в том, что их естественную потребность в игре-эксперименте взрослые часто подавляют фразами-ножницами: "Не лезь!", "Не трогай", "Ты испачкаешься", "Не шуми". Эти слова нередко блокируют ростки инициативы, оставляя вместо них лишь выжженную пустыню неуверенности: пассивность, боязливость, чувство вины.
«… у них развивается отравляющее чувство вины… Оно говорит Вам, что Вы ответственны за чувства и поведение других людей» (Bradshaw, 1990).
Между тем, мудрые родители понимают: чтобы научиться летать, нужно сначала падать; чтобы стать ответственным, нужно сначала пробовать. Их секрет прост — они умеют быть соучастниками детских игр, направляя, но не командуя, подстраховывая, но не ограничивая. В этом и заключается великое искусство воспитания — дать ребенку наиграться вдоволь, чтобы потом он смог всерьез взяться за дело своей жизни. Так формируется активность, инициатива, стремление «атаковать» задачу, радость от самостоятельного движения и действия, любознательность, исследовательская активность.
Два незримых дирижера стоят за плечами ребенка в этом возрасте: один шепчет 'Попробуй!', другой — 'Остановись!' И чей голос звучит громче — зависит от той незримой партитуры, которую ежедневно пишут родители своими реакциями, жестами и молчаливым одобрением
Что развивает игра?
Воображение в игре является ключевым механизмом развития мышления, эмоций и социального понимания. Оно позволяет ребенку не только приспосабливаться к миру, но и активно его осваивать, переосмысливать и даже изменять — сначала в игре, а потом и в жизни.
Ребенок в этом возрасте умеет по воображению наделять смыслами самые обыденные предметы: веник становится скакуном, стулья — крепостью, а мамины бусы — волшебными кристаллами.
Игра вызывает качественные изменения в психике ребенка, формируя ключевые навыки и способности:
В процессе развития игры ребенок переходит от простых действий с предметами к сложным ролевым моделям, учится обходиться минимальными атрибутами (замещение), а главное — добровольно подчиняется правилам, что становится основой для будущей учебной деятельности.
Ребенок в этом возрасте умеет по воображению наделять смыслами самые обыденные предметы: веник становится скакуном, стулья — крепостью, а мамины бусы — волшебными кристаллами.
Игра вызывает качественные изменения в психике ребенка, формируя ключевые навыки и способности:
- Социальные навыки: общительность, умение договариваться, координировать действия с группой, соблюдать правила и распределять роли.
- Когнитивные функции: воображение, абстрактное мышление, способность к символическим заменам (палка = меч), планирование действий.
- Здоровые эмоции: понимание своих и чужих чувств, проживание сложных эмоций (страх, ответственность, забота) через ролевые ситуации.
- Произвольность поведения: контроль импульсов, следование правилам, даже если они противоречат сиюминутным желаниям.
- Творческую активность: от воспроизведения готовых сюжетов («дочки-матери») до придумывания сложных сценариев, охватывающих разные сферы жизни.
- Коммуникативные навыки: обмен опытом, совместное создание игрового пространства, разрешение конфликтов.
В процессе развития игры ребенок переходит от простых действий с предметами к сложным ролевым моделям, учится обходиться минимальными атрибутами (замещение), а главное — добровольно подчиняется правилам, что становится основой для будущей учебной деятельности.
10 проблем некачественного прохождения игровой деятельности в дошкольном возрасте
Что происходит, когда вместо кукол и машинок дети получают бесконечные мультфильмы и готовые сюжеты видеоигр? И почему современные родители и педагоги все чаще… забывают, как играть?
В датском городе Эмдруп в 1943 году произошло интересное событие: архитектор Карл Сёренсен, наблюдая за детьми, игравшими не на специально отведенных для этого территориях (детских площадках), а на строительных площадках, создал первую в мире "площадку приключений". Вместо ярких горок и готовых домиков — груды досок, ящиков и инструментов. Дети, которые прежде дрались за право покататься на единственных качелях, вдруг начали совместно строить крепости, распределять роли и самостоятельно разрешать конфликты.
В датском городе Эмдруп в 1943 году произошло интересное событие: архитектор Карл Сёренсен, наблюдая за детьми, игравшими не на специально отведенных для этого территориях (детских площадках), а на строительных площадках, создал первую в мире "площадку приключений". Вместо ярких горок и готовых домиков — груды досок, ящиков и инструментов. Дети, которые прежде дрались за право покататься на единственных качелях, вдруг начали совместно строить крепости, распределять роли и самостоятельно разрешать конфликты.
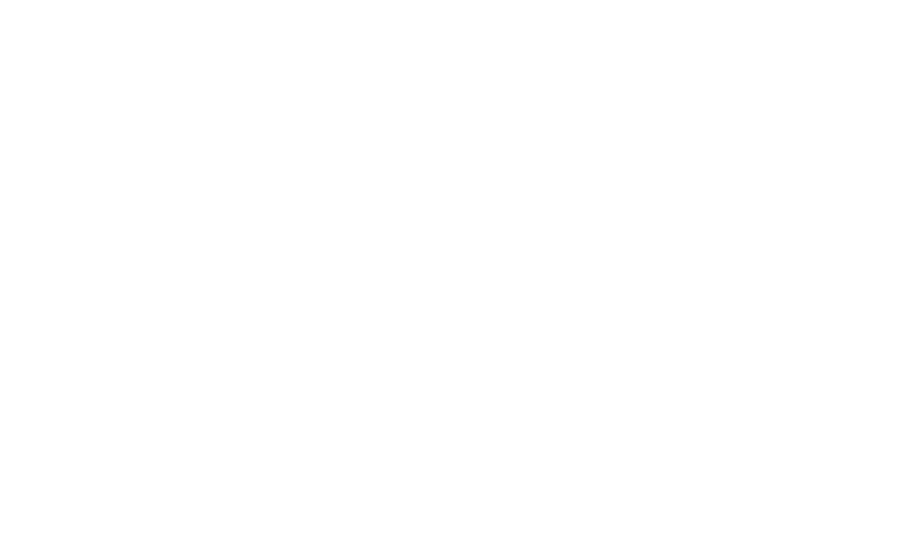
На фотографиях того времени видно, как дети играют с кирпичами, копаются в грязи и строят шалаши из дерева и гвоздей. В своей книге Parkipolitik i Sogn og Købstad (Парковая политика в приходе и рыночном городе) Сёренсен заявил, что, по его мнению, «детские площадки — это самая важная форма общественных насаждений в городе».
А потом появились шведские «Робинзоны» — места, где дети не только строили, но и экспериментировали с песком, водой и даже огнём. Идея разлетелась по Европе: оказалось, если дать ребёнку не готовую игрушку, а материал для творчества, он научится куда большему.
А что в России?
Первая детская площадка у нас открылась ещё в 1894 году в Петербурге — на деньги последней царской семьи. Но настоящее тиражирование случилось после революции: Крупская, замнаркома просвещения, массово внедрила игровые зоны при школах и во дворах. Песочницы, горки, «лазилки» — всё для того, чтобы дети росли активными и здоровыми.
А ещё в 30-е попасть на площадку было не так просто — требовалась регистрация! В анкетах указывали доход семьи, профессию родителей и даже здоровье ребёнка. Так государство убивало двух зайцев: развлекало детей и… проводило масштабное социологическое исследование. Позже добавились турники и брусья — стране нужны были крепкие будущие солдаты и работники.
Что происходит сегодня?
Современные площадки — яркие, безопасные, продуманные до мелочей. Но так ли они развивают ребёнка, как те, где можно было строить, экспериментировать, рисковать?
Еще в XIX веке, когда большинство педагогов видело в ребенке лишь объект для воспитания и дисциплины, Фридрих Фребель совершил настоящую революцию. Он не просто основал первые детские сады — он изменил сам подход к развитию детей, заявив: «Детям нужна не муштра, а свободные игры». Его идея казалась настолько радикальной, что многие современники воспринимали её с недоверием. Но Фребель настаивал — именно в игре, а не в строгих уроках, раскрывается подлинная природа ребенка.
Чтобы доказать свою правоту, он создал необычные для того времени «песочные сады» — места, где дети могли свободно играть, строить, экспериментировать с песком и природными материалами. Эти площадки быстро завоевали популярность в Германии, став прообразом современных детских садов. Правда, взрослые поначалу не могли полностью отпустить контроль — за играющими детьми все равно наблюдали воспитатели. Но сам принцип был запущен: игра — не пустое времяпрепровождение, а важнейший процесс, формирующий личность.
Фребель видел в игре нечто гораздо большее, чем забаву. Он называл её «самым чистым и духовным проявлением человека», зеркалом будущей взрослой жизни:
«Игра – самое чистое и самое духовное проявление человека на этой ступени, и в то же время она является прообразом и копией всей человеческой жизни, внутренней, сокровенной естественной жизни как в человеке, так и во всех вещах; поэтому игра порождает радость, свободу, довольство, покой в себе и около себя, мир с миром. Источники всего хорошего лежат в игре и исходят из нее. Дитя, которое играет самодеятельно, спокойно, настойчиво, даже до телесного утомления, непременно сделается также способным, спокойным, настойчивым, самоотверженно радеющим о чужом и собственном благе… Игра этого времени, как было выше вскользь замечено, не есть пустая забава, она имеет высокий смысл и глубокое значение; заботься о ней, развивай ее, мать! Береги, охраняй ее, отец!
Спокойному, проницательному взгляду истинного знатока людей в самопроизвольно избранной игре ребенка этого периода ясно видится его будущая внутренняя жизнь. Игры этого возраста суть как бы почки всей будущей жизни, потому что в них развивается и проявляется весь человек в своих самых тончайших задатках, в своем внутреннем чувстве» – такими словами призывает Фребель родителей и воспитателей к внимательному отношению к играм детей.
Источник: «Будем жить для своих детей (сборник)» Фридрих Фребель
Сегодня мы наблюдаем обратный процесс. Современные дети окружены развивающими игрушками, но лишены главного — возможности по-настоящему играть и свободно преобразовывать мир вокруг себя. Календари дошкольников расписаны по минутам: английский в 9:00, шахматы в 11:00, скорочтение в 15:00. На прогулке — стерильные площадки с безопасными аттракционами, дома — обучающие приложения вместо коробок с "ненужным хламом". Игра превратилась в управляемый взрослыми процесс, а спонтанное творчество подменяется готовыми цифровыми сценариями.
А потом появились шведские «Робинзоны» — места, где дети не только строили, но и экспериментировали с песком, водой и даже огнём. Идея разлетелась по Европе: оказалось, если дать ребёнку не готовую игрушку, а материал для творчества, он научится куда большему.
А что в России?
Первая детская площадка у нас открылась ещё в 1894 году в Петербурге — на деньги последней царской семьи. Но настоящее тиражирование случилось после революции: Крупская, замнаркома просвещения, массово внедрила игровые зоны при школах и во дворах. Песочницы, горки, «лазилки» — всё для того, чтобы дети росли активными и здоровыми.
А ещё в 30-е попасть на площадку было не так просто — требовалась регистрация! В анкетах указывали доход семьи, профессию родителей и даже здоровье ребёнка. Так государство убивало двух зайцев: развлекало детей и… проводило масштабное социологическое исследование. Позже добавились турники и брусья — стране нужны были крепкие будущие солдаты и работники.
Что происходит сегодня?
Современные площадки — яркие, безопасные, продуманные до мелочей. Но так ли они развивают ребёнка, как те, где можно было строить, экспериментировать, рисковать?
Еще в XIX веке, когда большинство педагогов видело в ребенке лишь объект для воспитания и дисциплины, Фридрих Фребель совершил настоящую революцию. Он не просто основал первые детские сады — он изменил сам подход к развитию детей, заявив: «Детям нужна не муштра, а свободные игры». Его идея казалась настолько радикальной, что многие современники воспринимали её с недоверием. Но Фребель настаивал — именно в игре, а не в строгих уроках, раскрывается подлинная природа ребенка.
Чтобы доказать свою правоту, он создал необычные для того времени «песочные сады» — места, где дети могли свободно играть, строить, экспериментировать с песком и природными материалами. Эти площадки быстро завоевали популярность в Германии, став прообразом современных детских садов. Правда, взрослые поначалу не могли полностью отпустить контроль — за играющими детьми все равно наблюдали воспитатели. Но сам принцип был запущен: игра — не пустое времяпрепровождение, а важнейший процесс, формирующий личность.
Фребель видел в игре нечто гораздо большее, чем забаву. Он называл её «самым чистым и духовным проявлением человека», зеркалом будущей взрослой жизни:
«Игра – самое чистое и самое духовное проявление человека на этой ступени, и в то же время она является прообразом и копией всей человеческой жизни, внутренней, сокровенной естественной жизни как в человеке, так и во всех вещах; поэтому игра порождает радость, свободу, довольство, покой в себе и около себя, мир с миром. Источники всего хорошего лежат в игре и исходят из нее. Дитя, которое играет самодеятельно, спокойно, настойчиво, даже до телесного утомления, непременно сделается также способным, спокойным, настойчивым, самоотверженно радеющим о чужом и собственном благе… Игра этого времени, как было выше вскользь замечено, не есть пустая забава, она имеет высокий смысл и глубокое значение; заботься о ней, развивай ее, мать! Береги, охраняй ее, отец!
Спокойному, проницательному взгляду истинного знатока людей в самопроизвольно избранной игре ребенка этого периода ясно видится его будущая внутренняя жизнь. Игры этого возраста суть как бы почки всей будущей жизни, потому что в них развивается и проявляется весь человек в своих самых тончайших задатках, в своем внутреннем чувстве» – такими словами призывает Фребель родителей и воспитателей к внимательному отношению к играм детей.
Источник: «Будем жить для своих детей (сборник)» Фридрих Фребель
Сегодня мы наблюдаем обратный процесс. Современные дети окружены развивающими игрушками, но лишены главного — возможности по-настоящему играть и свободно преобразовывать мир вокруг себя. Календари дошкольников расписаны по минутам: английский в 9:00, шахматы в 11:00, скорочтение в 15:00. На прогулке — стерильные площадки с безопасными аттракционами, дома — обучающие приложения вместо коробок с "ненужным хламом". Игра превратилась в управляемый взрослыми процесс, а спонтанное творчество подменяется готовыми цифровыми сценариями.
Потеря игры — это угроза самому механизму развития личности
«Компьютерный экран все больше вытесняют игру, физическую активность, предметную и продуктивную деятельность, общение со сверстниками».
Источник: Поддержка игры в современной западной культуре // Современная зарубежная психология — 2016. Том 5. № 1
Minecraft может открыть перед детьми возможности для творчества - они позволяют конструировать целые виртуальные вселенные, осваивать азы программирования и находить друзей по всему миру. Однако за этими преимуществами кроется существенный недостаток: экранный мир не может заменить богатство мультисенсорного опыта реальных игровых площадок. В цифровом пространстве дети лишены тактильных ощущений, физической активности и того ценного взаимодействия с взрослыми, которое помогает осваивать разумный риск и границы допустимого.
«Опыт моей исследовательской практики показывает, что самым уязвимым звеном детской субкультуры обычно являются те аспекты культурной традиции, которые обеспечивают полноценность взаимодействия со сверстниками. Именно они разрушаются в первую очередь при обстоятельствах, неблагоприятных для существования детской субкультуры. А это бывает, когда дети не имеют возможности свободно играть в групповые игры, не регламентируемые взрослыми, и самостоятельно налаживать межличностные отношения со сверстниками».
Источник публикации: Мария Владимировна ОСОРИНА, «Двое крутят – один скачет…» 17.12.2007. https://psy.su/feed/2138/
1. Все признают её важность, но не понимают, как она работает
Сегодня игру называют основой развития дошкольника, но при этом она остаётся одной из самых загадочных деятельностей. Родители и педагоги твердят: «Нужно больше играть!» – но детские игры становятся всё беднее и применяются для "геймификации обучения". Мы покупаем развивающие игрушки, записываем детей на кружки, но не даём главного – свободы и поддержки для настоящей, живой игры. В результате игра превращается в формальность, а её развивающий потенциал остаётся нераскрытым.
2. Игра без воображения: действия есть, а смысла нет
Раньше дети часами разыгрывали сложные сюжеты, наполненные эмоциями и социальными взаимодействиями. Сегодня же игра часто сводится к механическим манипуляциям с игрушками: ребёнок катает машинку, кормит куклу, но не проживает роль, не создаёт воображаемый мир. Почему так происходит? Отчасти потому, что готовые игрушки (роботы, интерактивные куклы) не оставляют места для фантазии – они диктуют сценарий, а не развивают воображение.
3. Обеднение сюжетов: почему дети играют только в «семью»?
Сюжетно-ролевая игра – это зеркало, в котором отражаются социальные отношения людей. Раньше дети играли в «магазин», «больницу», «стройку», копируя профессии родителей. Но сегодня мир взрослых стал сложнее: многие дошкольники не знают, чем занимаются на работе мама и папа. В итоге игра сужается до бытовых сцен («дочки-матери», «уборка», «застолье»), а богатство социальных ролей остаётся за кадром. Это тормозит развитие способности понимать других.
4. Исчезновение игр с правилами: где учатся договариваться?
«Казаки-разбойники», «Классики», «Вышибалы» – эти игры учили детей соблюдать правила, уступать, работать в команде. Но сегодня дворы пустуют, а совместные игры заменяются одиночным времяпрепровождением с гаджетами. В результате дети приходят в школу, не умея договариваться, ждать своей очереди, проигрывать. А ведь эти навыки – основа не только учёбы, но и всей будущей жизни.
5. Неудобная среда: почему детям негде играть?
В современных квартирах нет места для игры: игрушки хранятся в ящиках, а любая активность требует уборки. Дети инстинктивно ищут уютные «домики» – строят их из подушек, забираются под столы. И это вовсе не каприз, а потребность в безопасном, «своём» пространстве, где можно творить без ограничений. Но вместо этого многие ребята получают стерильные детские комнаты, где всё должно быть «как у взрослых» – аккуратно и по правилам.
6. Взрослые разучились играть (и учить играть)
15–20 лет назад дети сами придумывали сюжеты, вовлекали в игру друзей, использовали палки вместо мечей и коробки вместо замков. Сегодня же многие родители учат детей читать с двух лет, но не считают нужным учить их играть. Кажется, что игра – это «само получится». Но не получается. Современные дошкольники часто копируют действия (например, нажимают кнопки на игрушечном телефоне), но не могут развить сюжет, придумать диалоги, войти в роль.
7. Праздники без игры: почему дети чувствуют себя лишними?
Раньше дни рождения были праздниками игры: вместе бегали, прятались, смеялись. Сегодня же дети часто сидят в стороне, пока взрослые общаются. А когда подрастают, предпочитают отмечать без родителей – потому что те «не умеют веселиться». Игра объединяет, но мы упускаем этот шанс, заменяя живое взаимодействие готовыми развлечениями (аниматорами, квестами).
8. Проблема игрушек: красиво, но бесполезно
Современные игрушки – точные копии реальных предметов, но в них нет тайны. Куклы-«модницы» не вызывают желания заботиться, а сложные роботы не оставляют места для фантазии. Дети быстро теряют к ним интерес, потому что такие игрушки не становятся частью воображаемого мира. А ведь именно простота (та же тряпичная кукла) пробуждает эмоции и творчество.
9. Куклы важны
Игра в куклы – это тренировка эмпатии: ребёнок учится понимать чувства «другого». Но сегодня даже девочки часто предпочитают технику, а мальчиков и вовсе отучают от «несерьёзных» игр. В результате дети недополучают опыт заботы и эмоционального взаимодействия, что позже сказывается на их отношениях с людьми.
Смастерил я грузовик
Для сестры Катюшки.
Подняла Катюшка крик:
— Разве это грузовик?
Три пустых катушки.
Смастерил я ей коня,
Пусть берёт, не жалко!
Катя смотрит на меня,
Не желает брать коня:
— Это просто палка!
Я свернул два лоскута.
— Ах, — сказала Катя,
— Ах, какая красота:
Кукла в пёстром платье!
«Кукла» — стихотворение Агнии Барто
10. Жёсткие рамки уничтожают волшебство
Если взрослый всегда остаётся строгим родителем («Не шуми!», «Убери!», «Так не делают!»), у ребёнка не остаётся места для фантазии. Игра требует свободы, но мы часто подавляем её в угоду порядку. А потом удивляемся, почему дети не умеют фантазировать.
Эта утрата способности играть вместе — тревожный симптом глубоких изменений в детском развитии. То, что раньше осваивалось естественно — через дворовые игры и совместные забавы, — сегодня требует специального обучения.
Источник: Поддержка игры в современной западной культуре // Современная зарубежная психология — 2016. Том 5. № 1
Minecraft может открыть перед детьми возможности для творчества - они позволяют конструировать целые виртуальные вселенные, осваивать азы программирования и находить друзей по всему миру. Однако за этими преимуществами кроется существенный недостаток: экранный мир не может заменить богатство мультисенсорного опыта реальных игровых площадок. В цифровом пространстве дети лишены тактильных ощущений, физической активности и того ценного взаимодействия с взрослыми, которое помогает осваивать разумный риск и границы допустимого.
«Опыт моей исследовательской практики показывает, что самым уязвимым звеном детской субкультуры обычно являются те аспекты культурной традиции, которые обеспечивают полноценность взаимодействия со сверстниками. Именно они разрушаются в первую очередь при обстоятельствах, неблагоприятных для существования детской субкультуры. А это бывает, когда дети не имеют возможности свободно играть в групповые игры, не регламентируемые взрослыми, и самостоятельно налаживать межличностные отношения со сверстниками».
Источник публикации: Мария Владимировна ОСОРИНА, «Двое крутят – один скачет…» 17.12.2007. https://psy.su/feed/2138/
1. Все признают её важность, но не понимают, как она работает
Сегодня игру называют основой развития дошкольника, но при этом она остаётся одной из самых загадочных деятельностей. Родители и педагоги твердят: «Нужно больше играть!» – но детские игры становятся всё беднее и применяются для "геймификации обучения". Мы покупаем развивающие игрушки, записываем детей на кружки, но не даём главного – свободы и поддержки для настоящей, живой игры. В результате игра превращается в формальность, а её развивающий потенциал остаётся нераскрытым.
2. Игра без воображения: действия есть, а смысла нет
Раньше дети часами разыгрывали сложные сюжеты, наполненные эмоциями и социальными взаимодействиями. Сегодня же игра часто сводится к механическим манипуляциям с игрушками: ребёнок катает машинку, кормит куклу, но не проживает роль, не создаёт воображаемый мир. Почему так происходит? Отчасти потому, что готовые игрушки (роботы, интерактивные куклы) не оставляют места для фантазии – они диктуют сценарий, а не развивают воображение.
3. Обеднение сюжетов: почему дети играют только в «семью»?
Сюжетно-ролевая игра – это зеркало, в котором отражаются социальные отношения людей. Раньше дети играли в «магазин», «больницу», «стройку», копируя профессии родителей. Но сегодня мир взрослых стал сложнее: многие дошкольники не знают, чем занимаются на работе мама и папа. В итоге игра сужается до бытовых сцен («дочки-матери», «уборка», «застолье»), а богатство социальных ролей остаётся за кадром. Это тормозит развитие способности понимать других.
4. Исчезновение игр с правилами: где учатся договариваться?
«Казаки-разбойники», «Классики», «Вышибалы» – эти игры учили детей соблюдать правила, уступать, работать в команде. Но сегодня дворы пустуют, а совместные игры заменяются одиночным времяпрепровождением с гаджетами. В результате дети приходят в школу, не умея договариваться, ждать своей очереди, проигрывать. А ведь эти навыки – основа не только учёбы, но и всей будущей жизни.
5. Неудобная среда: почему детям негде играть?
В современных квартирах нет места для игры: игрушки хранятся в ящиках, а любая активность требует уборки. Дети инстинктивно ищут уютные «домики» – строят их из подушек, забираются под столы. И это вовсе не каприз, а потребность в безопасном, «своём» пространстве, где можно творить без ограничений. Но вместо этого многие ребята получают стерильные детские комнаты, где всё должно быть «как у взрослых» – аккуратно и по правилам.
6. Взрослые разучились играть (и учить играть)
15–20 лет назад дети сами придумывали сюжеты, вовлекали в игру друзей, использовали палки вместо мечей и коробки вместо замков. Сегодня же многие родители учат детей читать с двух лет, но не считают нужным учить их играть. Кажется, что игра – это «само получится». Но не получается. Современные дошкольники часто копируют действия (например, нажимают кнопки на игрушечном телефоне), но не могут развить сюжет, придумать диалоги, войти в роль.
7. Праздники без игры: почему дети чувствуют себя лишними?
Раньше дни рождения были праздниками игры: вместе бегали, прятались, смеялись. Сегодня же дети часто сидят в стороне, пока взрослые общаются. А когда подрастают, предпочитают отмечать без родителей – потому что те «не умеют веселиться». Игра объединяет, но мы упускаем этот шанс, заменяя живое взаимодействие готовыми развлечениями (аниматорами, квестами).
8. Проблема игрушек: красиво, но бесполезно
Современные игрушки – точные копии реальных предметов, но в них нет тайны. Куклы-«модницы» не вызывают желания заботиться, а сложные роботы не оставляют места для фантазии. Дети быстро теряют к ним интерес, потому что такие игрушки не становятся частью воображаемого мира. А ведь именно простота (та же тряпичная кукла) пробуждает эмоции и творчество.
9. Куклы важны
Игра в куклы – это тренировка эмпатии: ребёнок учится понимать чувства «другого». Но сегодня даже девочки часто предпочитают технику, а мальчиков и вовсе отучают от «несерьёзных» игр. В результате дети недополучают опыт заботы и эмоционального взаимодействия, что позже сказывается на их отношениях с людьми.
Смастерил я грузовик
Для сестры Катюшки.
Подняла Катюшка крик:
— Разве это грузовик?
Три пустых катушки.
Смастерил я ей коня,
Пусть берёт, не жалко!
Катя смотрит на меня,
Не желает брать коня:
— Это просто палка!
Я свернул два лоскута.
— Ах, — сказала Катя,
— Ах, какая красота:
Кукла в пёстром платье!
«Кукла» — стихотворение Агнии Барто
10. Жёсткие рамки уничтожают волшебство
Если взрослый всегда остаётся строгим родителем («Не шуми!», «Убери!», «Так не делают!»), у ребёнка не остаётся места для фантазии. Игра требует свободы, но мы часто подавляем её в угоду порядку. А потом удивляемся, почему дети не умеют фантазировать.
Эта утрата способности играть вместе — тревожный симптом глубоких изменений в детском развитии. То, что раньше осваивалось естественно — через дворовые игры и совместные забавы, — сегодня требует специального обучения.
Ошеломительные результаты исследования «Двое крутят – один скачет…»
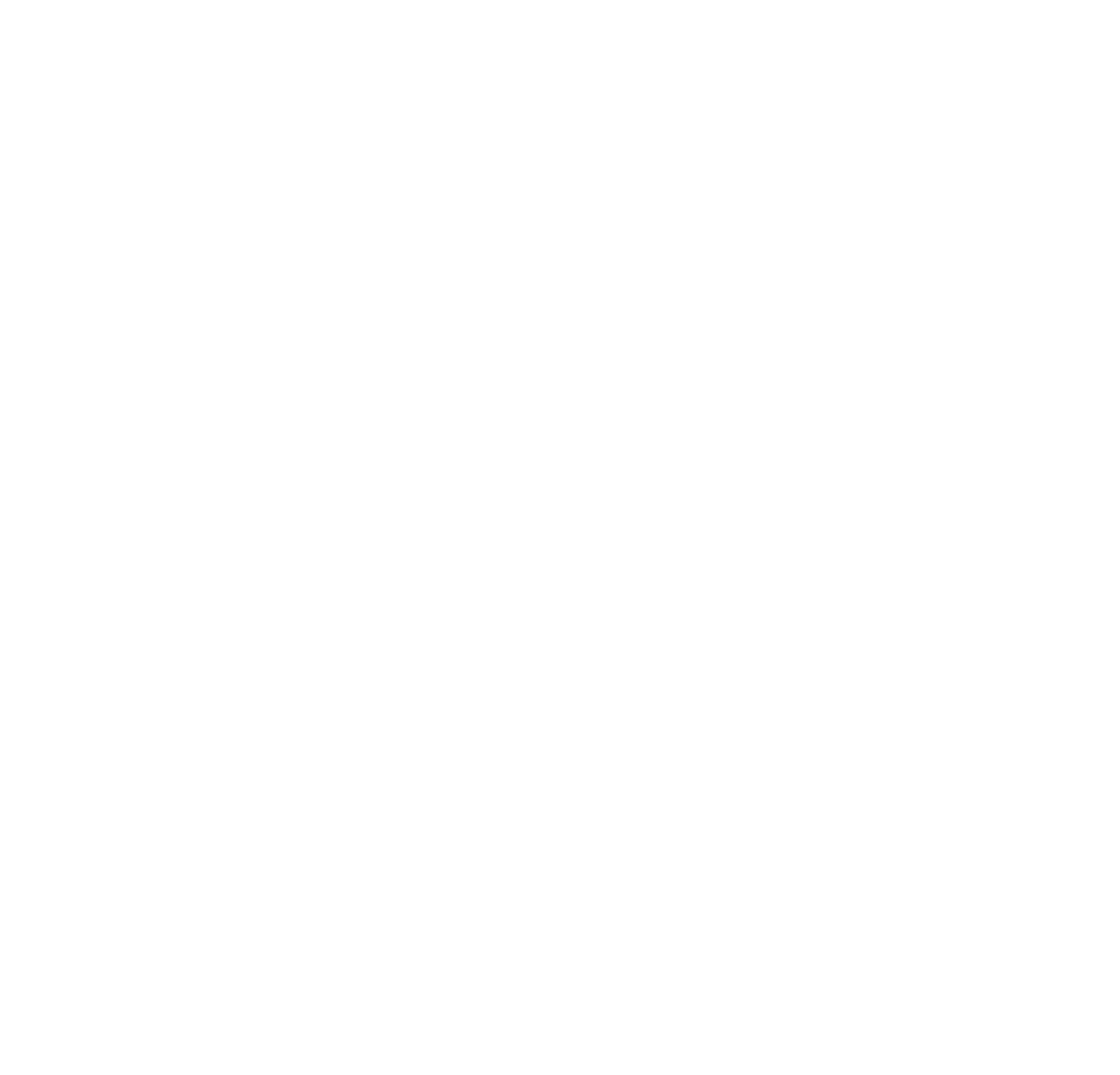
М. Осориной было проведено уникальное исследование, наглядно демонстрирующее изменения в способности современных детей к совместной деятельности. Эксперимент с прыжками через скакалку выявил удивительные результаты:
«Недавно мы попробовали провести небольшой эксперимент: около школы в течение двух недель мая после занятий ежедневно обучали всех желающих детей прыгать через веревку. Желающих девочек и мальчиков оказалось достаточно, но результаты были ошеломительны. Во-первых, выяснилось, что современным детям трудно научиться крутить веревку в паре.
Проблема была в том, что дети не могли удерживать внимание на партнере и были способны действовать с ним в общем ритме только очень короткое время. Стоило им начать ритмично крутить веревку, как через полминуты альянс распадался из-за того, что оба партнера теряли контакт друг с другом. Один начинал смотреть в небо, другой — на проходящих мимо людей. Распадалась координация зрения и движения руки, веревка начинала выписывать вензеля, потому что каждый из детей крутил ее в своем темпе, не обращая внимания на партнера и не замечая, что происходит в результате.
Во-вторых, когда веревку крутили двое умелых студентов, оказалось, что почти никто из детей не понимает, как надо подстроиться под ритм, чтобы впрыгнуть в пространство движущейся веревки и соединиться с ним, дабы овладеть ситуацией.
На все это приходили наблюдать со стороны школьные учительницы, им было любопытно. Как выяснилось, они были мастерицами прыгать через крутящуюся веревку — ведь во времена их детства такое умела практически каждая девочка. Учительницы были настолько потрясены увиденным, что некоторые, глядя на детей, от ужаса начинали плакать. Было очевидно, что проблема современных детей состояла не в отсутствии двигательных навыков — это дело наживное. Главной сложностью оказалось неумение вступать в контакт и удерживать этот контакт с партнером в процессе игрового взаимодействия. Осознание присутствия такого серьезного провала в развитии детей и вызвало ужас у взрослых учительниц. Они почувствовали насколько глубокой и ранней оказалась эта проблема, как мы знаем, формирующаяся еще в младенчестве. Ее решение обычно обеспечивается умениями эмпатической настройки, когда тельце ребенка учится входить в унисон с ритмом движений матери, действуя заодно с ней и создавая единство двух сотрудничающих людей.
В плане обучения детей прыганью через веревку мы не преуспели, несмотря на хорошие отношения со всеми участниками событий. Однако этот эксперимент был чрезвычайно психодиагностичен».
Источник публикации: Мария Владимировна ОСОРИНА, «Двое крутят – один скачет…» 17.12.2007. https://psy.su/feed/2138/
Исследование показывает, как исчезает сама культура детской игры с её неписанными правилами, взаимопониманием и радостью коллективного действия.
«Недавно мы попробовали провести небольшой эксперимент: около школы в течение двух недель мая после занятий ежедневно обучали всех желающих детей прыгать через веревку. Желающих девочек и мальчиков оказалось достаточно, но результаты были ошеломительны. Во-первых, выяснилось, что современным детям трудно научиться крутить веревку в паре.
Проблема была в том, что дети не могли удерживать внимание на партнере и были способны действовать с ним в общем ритме только очень короткое время. Стоило им начать ритмично крутить веревку, как через полминуты альянс распадался из-за того, что оба партнера теряли контакт друг с другом. Один начинал смотреть в небо, другой — на проходящих мимо людей. Распадалась координация зрения и движения руки, веревка начинала выписывать вензеля, потому что каждый из детей крутил ее в своем темпе, не обращая внимания на партнера и не замечая, что происходит в результате.
Во-вторых, когда веревку крутили двое умелых студентов, оказалось, что почти никто из детей не понимает, как надо подстроиться под ритм, чтобы впрыгнуть в пространство движущейся веревки и соединиться с ним, дабы овладеть ситуацией.
На все это приходили наблюдать со стороны школьные учительницы, им было любопытно. Как выяснилось, они были мастерицами прыгать через крутящуюся веревку — ведь во времена их детства такое умела практически каждая девочка. Учительницы были настолько потрясены увиденным, что некоторые, глядя на детей, от ужаса начинали плакать. Было очевидно, что проблема современных детей состояла не в отсутствии двигательных навыков — это дело наживное. Главной сложностью оказалось неумение вступать в контакт и удерживать этот контакт с партнером в процессе игрового взаимодействия. Осознание присутствия такого серьезного провала в развитии детей и вызвало ужас у взрослых учительниц. Они почувствовали насколько глубокой и ранней оказалась эта проблема, как мы знаем, формирующаяся еще в младенчестве. Ее решение обычно обеспечивается умениями эмпатической настройки, когда тельце ребенка учится входить в унисон с ритмом движений матери, действуя заодно с ней и создавая единство двух сотрудничающих людей.
В плане обучения детей прыганью через веревку мы не преуспели, несмотря на хорошие отношения со всеми участниками событий. Однако этот эксперимент был чрезвычайно психодиагностичен».
Источник публикации: Мария Владимировна ОСОРИНА, «Двое крутят – один скачет…» 17.12.2007. https://psy.su/feed/2138/
Исследование показывает, как исчезает сама культура детской игры с её неписанными правилами, взаимопониманием и радостью коллективного действия.
Ключевые выводы для воспитания творческой личности через игровую деятельность
Мы разобрали, почему современные дети теряют способность играть и чем это грозит их развитию. Но как вернуть игру в жизнь ребёнка? Какие виды игр особенно важны для дошкольников и как родители могут создать условия для по-настоящему развивающей игры?
Ведь сохранить традиционную игру — значит сохранить детство. Слова Фридриха Фребеля звучат удивительно современно: игра — «почки всей будущей жизни», основа эмоционального, социального и интеллектуального развития. Сегодня, спустя почти два века, мы вновь возвращаемся к этим идеям — потому что видим, что происходит, когда игра исчезает из детства. Игра — не прихоть, а необходимость, заложенная в самой природе детского развития.
Ведь сохранить традиционную игру — значит сохранить детство. Слова Фридриха Фребеля звучат удивительно современно: игра — «почки всей будущей жизни», основа эмоционального, социального и интеллектуального развития. Сегодня, спустя почти два века, мы вновь возвращаемся к этим идеям — потому что видим, что происходит, когда игра исчезает из детства. Игра — не прихоть, а необходимость, заложенная в самой природе детского развития.
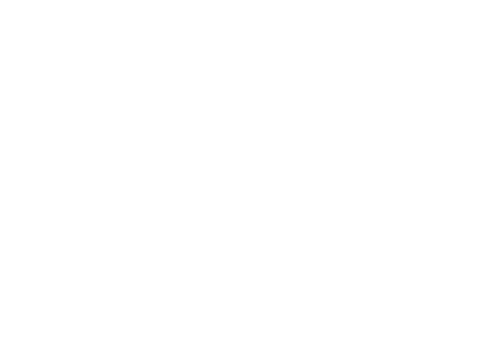
Это удивительным образом перекликается с современным принципом педагогики гениальности: настоящее развитие ребенка происходит не через ускорение, а через полноценное проживание каждого возрастного этапа. Не научить ребенка читать как можно раньше, а дать ему наиграться в "дочки-матери", построить сто песочных замков, перепрожить все возможные роли.
Сегодня мы видим печальные последствия "недоигранного" детства: взрослые, которые в 30 лет ищут себя, не умеют справляться с эмоциями, боятся совершать ошибки. Это во многом результат того, что их в свое время "оптимизировали" - лишили возможности полностью прожить дошкольный возраст, заменив свободную игру ранним обучением.
Дорогие родители, не устану повторять и предостерегать: нельзя торопить распускание этих почек искусственным подогревом. Настоящая педагогика гениальности - не выращивание вундеркиндов, а создание условий, где каждый возраст проживается глубоко и полно.
Но как создать условия для настоящей игры в мире, где ее вытесняют гаджеты и развивающие занятия? Как играть с ребенком, если мы сами забыли, что это значит? В следующей части – конкретные шаги, которые помогут вернуть игру в жизнь вашего ребенка.
Продолжение следует ...
Источники:
1) Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д. Б. Эльконин; — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2007 — 384 с.
2) Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. // Альманах Института коррекционной педагогики. Альманах №28 2017 .
3) Кравцова Е.Е. К78 Разбуди в ребенке волшебника: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. — М.: Просвещение: Учебная литература, 1996. — 160 с.
4) Леонтьев А. Н. К теории развития психики ребенка // Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1983.
5) Рубинштейн С. Л. Принцип творческой самодеятельности // Вопросы психологии. 1986. № 4.
Сегодня мы видим печальные последствия "недоигранного" детства: взрослые, которые в 30 лет ищут себя, не умеют справляться с эмоциями, боятся совершать ошибки. Это во многом результат того, что их в свое время "оптимизировали" - лишили возможности полностью прожить дошкольный возраст, заменив свободную игру ранним обучением.
Дорогие родители, не устану повторять и предостерегать: нельзя торопить распускание этих почек искусственным подогревом. Настоящая педагогика гениальности - не выращивание вундеркиндов, а создание условий, где каждый возраст проживается глубоко и полно.
Но как создать условия для настоящей игры в мире, где ее вытесняют гаджеты и развивающие занятия? Как играть с ребенком, если мы сами забыли, что это значит? В следующей части – конкретные шаги, которые помогут вернуть игру в жизнь вашего ребенка.
Продолжение следует ...
Источники:
1) Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д. Б. Эльконин; — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2007 — 384 с.
2) Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. // Альманах Института коррекционной педагогики. Альманах №28 2017 .
3) Кравцова Е.Е. К78 Разбуди в ребенке волшебника: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. — М.: Просвещение: Учебная литература, 1996. — 160 с.
4) Леонтьев А. Н. К теории развития психики ребенка // Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1983.
5) Рубинштейн С. Л. Принцип творческой самодеятельности // Вопросы психологии. 1986. № 4.
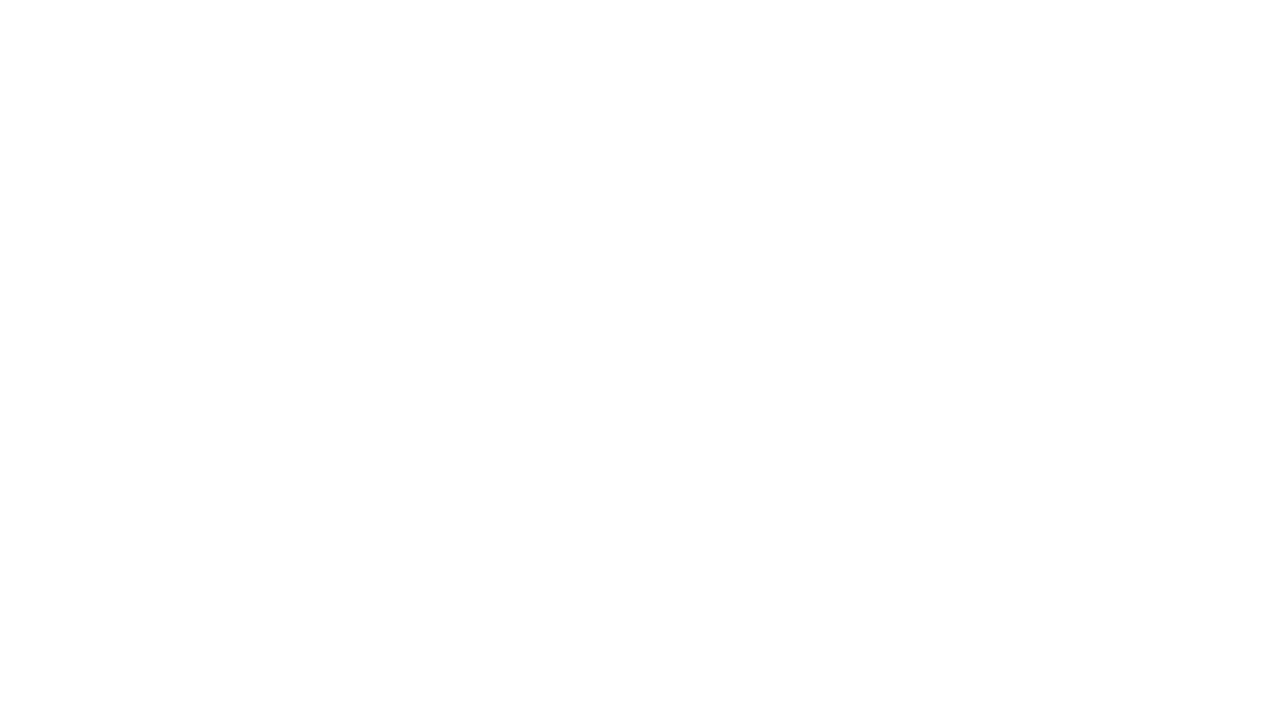
Для особенных родителей
Телеграм о воспитании талантливых детей
Подпишитесь, чтобы не пропустить